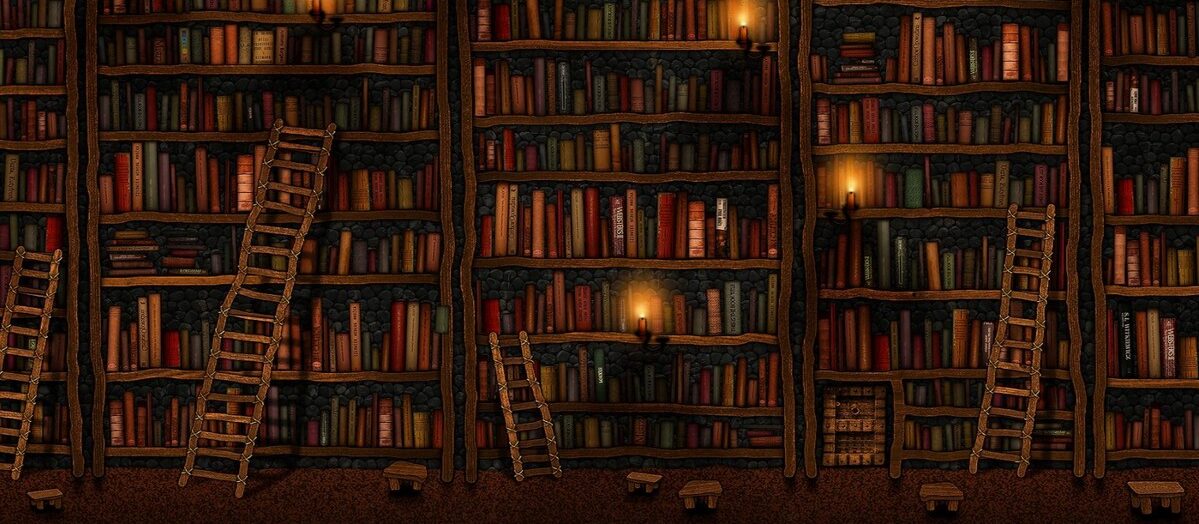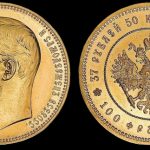Великий вешатель
Об этом человеке судят в основном по мрачноватому историческому анекдоту. Когда его спросили, не родственник ли он повешенному декабристу Муравьеву-Апостолу, он ответил: «Я не из тех Муравьевых, которых вешают. Я — из тех, которые вешают».
Без пяти минут декабрист
Прозвище Вешатель намертво прицепилось к Михаилу Муравьеву. Как мы увидим, не вполне справедливо.

Муравьевы — почтенный дворянский род, представители которого дали России с десяток государственных деятелей. Отец нашего героя — генерал-майор Николай Муравьев — отличался и в морских, и в сухопутных баталиях, хорошо разбирался в военно-теоретических вопросах и за собственный счет основал Московское училище колонновожатых, готовившее специалистов по штабной и тыловой службе.
Михаил Муравьев родился 1 октября 1796 года и первые шаги делал в компании со старшими братьями — Александром и Николаем. Вместе они изучали точные науки, вместе участвовали в Наполеоновских войнах и вместе витийствовали в тайных офицерских кружках, из которых выросли декабристские Северное и Южное общества.
Брат Николай, впрочем, отправился на Кавказ, и для него это «якобинство» обошлось без последствий. Александра по делу декабристов арестовали и сослали в Сибирь, где он продолжил службу с двойным усердием, побывав губернатором нескольких регионов. У Михаила же были настоящие «американские горки».
Получив при Бородине ранение ядром в ногу, он с тех пор ходил с тросточкой, и все видели, что имеют дело с боевым офицером. В 1818 году он женился на аристократке Пелагее Шереметевой, родившей ему трех сыновей и дочку.
В 24 года Муравьев имел чин подполковника гвардии и состоял в свите императора. Но в 1820 году лейб-гвардии Семеновский полк, в котором он числился, попытался подать жалобу на полкового командира, что было истолковано как мятеж. Полк переформировали, а Михаил Николаевич вышел в отставку и занялся хозяйством в смоленских имениях. В период неурожая он организовал столовую для полутора сотен крестьян, которых фактически взял на содержание.
Когда началось следствие по делу декабристов, его отправили в Петропавловскую крепость, но вскоре освободили с оправдательным аттестатом.
Защитник «Быдла»
Николаю I понравилась поданная Муравьевым записка об искоренении взяточничества в судах, и его как перспективного чиновника назначили в Витебскую губернию вице-губернатором.
Михаил Николаевич взялся за дело с усердием, побывав за следующие восемь лет губернатором в Могилеве и Гродно. Все эти регионы составляли так называемый Северо-Западный край, где местная элита сплошь состояла из польских или ополячившихся литовских и белорусских помещиков. Крестьянам отводилась роль «быдла» -так по-польски называлась используемая в сельском хозяйстве скотина.
Муравьев стремился ослабить значение дворян и улучшить положение крестьян, причем крестьянам настойчиво напоминалось, что они — белорусы — того же корня, что великороссы и малороссы.
Венцом его имперских усилия стало возвращение в 1839 году белорусских униатов в православие. Правда, самого Муравьева к тому времени уже перевели в Курск. Вероятно, подсуетилось влиятельное при дворе польское лобби.
Вернувшись в столицу, Михаил Николаевич руководил департаментом податей и сборов, занимал еще несколько должностей, а при Александре II стал министром государственных имуществ.
Однако при подготовке и проведении крестьянской реформы он слишком подыгрывал помещикам и в результате слетел с должности. Ему было 66 лет, но, как показали дальнейшие события, это было не падение, а разминка перед финальным взлетом.
Гроза «кинжальщиков»
В январе 1863 года вспыхнуло польское восстание, а через три месяца Муравьева назначили виленским генерал-губернатором с правами наместника всего Северо-Западного края.
Крупных сражений не было, но мятежные территории наводнили партизанские отряды. В их рядах действовали и группы «кинжальщиков», или «народной жандармерии», ликвидировавшие чинов администрации и местных жителей, помогавших правительственным силам.
В городах эти революционеры-террористы отметились неудачными покушениями на начальника полиции Федора Трепова, наместника Польши великого князя Константина Николаевича и сменившего его Федора Берга.
В Северо-Западном крае крупных чиновников было меньше, а сторонников правительства, особенно среди крестьян и православных священников, на порядок больше. Они-то и становились жертвами «кинжальщиков», которые с учетом специфики борьбы в сельской местности переименовались в «жандармов-вешателей».
Священника Даниила Конопасевича, к примеру, повесили во дворе его собственной хаты. Так же расправились с отцом Константином Прокоповичем, причем перед казнью его избили ружейными прикладами и кольями.
По минимальным оценкам, в Северо-Западном крае повстанцы повесили не менее 305 человек, общее же число жертв террористов на конец 1863 года составило 924 человека. Но восстание закончилось только в мае 1864 года, а финальные цифры не раз корректировались, так что можно принять данные Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, сообщающей о двух тысячах жертв повстанческого террора.
Повстанцев же при Муравьеве в Северо-Западном крае повесили гораздо меньше — 128 человек. Еще несколько десятков расстреляли, но даже с ними число «павших героев» не достигает двух сотен. Примерно столько же мятежников было казнено и в Царстве Польском, но там восстание имело куда большие масштабы. Так что по сравнению с наместником Бергом Муравьев действовал жестче.
Однако вешали повстанцев не по его личным приказам, а в соответствии с подписанным им положением об особом порядке судопроизводства. Приговор выносил военно-полевой суд, состоявший из офицеров близлежащей воинской части. И казнили не всех подряд, а тех, чьи действия подпадали под понятие «политический террор».
Муравьев мог разве что смягчить приговор, чем он изредка пользовался. Но чаще Михаил Николаевич бравировал своей суровостью и скорей мог заменить расстрел на повешение.
Александр II наградил Муравьева графским титулом с почетной прибавкой к фамилии — Виленский.
Некрасовская ода
Генерал-губернатор практически не вылезал из своего кабинета, работая по 18 часов в сутки. И главную ставку делал все-таки не на репрессии.
По его настоянию грабительская для российских крестьян реформа 1861 года стала для крестьян белорусских бесспорным благом. Подати у них были примерно на 60% меньше, а наделы увеличились примерно на четверть.
Все польские помещики были обложены десятипроцентным дополнительным налогом на доходы. За ношение траура по казненным повстанцам накладывались штрафы, а конфискованные у мятежников земли и имущество тут же распределялись между малоземельными и безземельными крестьянами.
Поляков-чиновни-ков выгоняли со службы, выплачивая им солидные пособия и заменяя на специалистов из великорусских губерний. Для подготовки местных кадров открывались школы, училища, гимназии. Массовыми тиражами распространялись бесплатные православные молитвенники, учебники, гравюры, брошюры и литографии патриотического содержания.
В общем, для русификации Северо-Западного края за два года наместничества Муравьева было сделано больше, чем за семь предыдущих десятилетий. И при нем же начала формироваться белорусская интеллигенция.
В 1865 году Александр II наградил Михаила Николаевича графским титулом с почетной прибавкой к фамилии — Виленский.
Десятью годами ранее его старший брат Николай тоже стал графом за взятие турецкой крепости Карс, но дополнительной приставки к фамилии почему-то не удостоился. Однако Николая Муравьева современники все равно именовали Карсским, а вот Михаила, в зависимости от политических воззрений, называли либо Виленским, либо Вешателем.
Когда столичный генерал-губернатор Александр Суворов(внук генералиссимуса) отказался подписывать направленный Муравьеву приветственный адрес, Федор Тютчев язвительно отчитал его в своем стихотворении. Поэт Николай Некрасов в Английском клубе тоже продекламировал Муравьеву нечто вроде хвалебной оды, но потом был заклеван либералами, так что стихи канули в Лету.
Михаил Николаевич наблюдал за этими литературными страстями без особого интереса, поскольку, надорвав здоровье, чувствовал, что жить ему оставалось недолго. Скончался он 31 августа 1866 года.
Герцен удовлетворенно заявил: «Задохнулся отвалившийся от груди России вампир». А Федор Тютчев пролил стихотворную слезу:
На гробовой его покров Мы, вместо всех венков, кладем слова простые: Не много было б у него врагов,
Когда бы не твои, Россия.
Кого-кого, а врагов у него хватало.
Дмитрий Митюрин